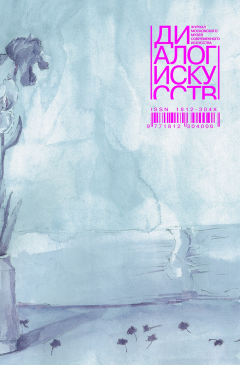Арт-акционизм — искусство провокации и искусство реагировать на провокацию. Всегда были люди, не любившие власть, и у них всегда были разные способы самовыражения. Перформанс и акционизм как его специфическая концентрированная форма родились, видимо, в 1910-е годы.
|
|
Арт-акционизм — искусство провокации и искусство реагировать на провокацию. Всегда были люди, не любившие власть, и у них всегда были разные способы самовыражения. Перформанс и акционизм как его специфическая концентрированная форма родились, видимо, в 1910-е годы. Тогда акция была направлена против не персонифицированной власти, а настроений общества. Отсюда «Пощечина общественному вкусу», акции футуристов, которых совершенно не волновали личности министров Николая II. В 1930-е годы в Европе это движение практически затихло — разворачивалась битва между тоталитарными государствами, и миру было не до художественных акций, хотя ранние сюрреалисты и позволяли себе всякие выходки. Кстати, у европейской акции есть замечательный русский аналог — выходка. Очень многозначный: сам вышел на публику, из себя вышел и всем показал. В этом слове есть что-то раблезианско-народное, бахтинское, спонтанно-стихийное, когда человек не думает стратегически, не печется о последствиях: ему бы выдать что-нибудь эдакое, что всех проймет до нутра.
Расцвет западного акционизма, его золотые деньки пришлись на конец 1950-х — 1960-е годы, когда велась борьба с рецидивами тоталитарного мышления, отсюда венский акционизм. И борьба за все на свете: от прав женщин до прав меньшинств в Америке. В Штатах тогда все смешалось: и права за женскую идентичность, и движения против войны во Вьетнаме, и против того, что в советах директоров крупных музеев современного искусства заседали буржуи-капиталисты. Позже великолепные перформансы делали «Guerilla Girls». Именно в 1960-е годы современное искусство начинает получать в западном обществе массовую поддержку и выходит на арену политической борьбы именно тогда.
Россия фактически только в 1990-е годы вошла в транснациональное искусство, где эти акции давно стали неотъемлемой частью художественной жизни. У нас к тому времени (с 1976-го) действовала разве что группа «Коллективные действия», но ее участники существовали в своем, скрытом от общества кругу, их достаточно эзотерическая художественная деятельность сконцентрировалась на механизмах восприятия искусства.
Политический акционизм у нас зародился в годы горбачевской перестройки и расцвел в начале 1990-х годов (хотя помню прецеденты — умные ленинградские акции
И. Захарова-Росса, в которых политическое было замешено на экзистенциальном). Вообще-то, акционизм далеко не всегда связан с политическим противостоянием. Акционизм — это форма активного, острого, провоцирующего искусства, привлекающего внимание, разрушающего стереотипы — поведенческие, религиозные, политические, психологические. Он всегда направлен против некой затвердевшей, потерявшей динамику системы и против ее охранителей. Ведь охранительство — не только политическая материя. Политический акционизм, да, направлен на уязвимые места политической системы, которые в глазах художников требуют осмеяния и остракизма. Но существуют и другие виды акционизма, направленные на стереотипы сознания, поведения, бытовой культуры и пр. Более того, есть акционизм, я бы сказал, интровертный: художник обращен к себе, борется с чем-то внутри себя. «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой». На всех направлениях акционизм встречает сопротивление охранителей, опять же различной «специализации»: политической, религиозной, морально-этической и пр.
Пик художественных акций у нас пришелся на середину 1990-х, когда появились акции Олега Кулика и Александра Бренера. Кулик — замечательный и тонкий мастер перформанса и акции. Замечу, что его знаменитые «собачьи» акции носили социально-экзистенциальный характер, вызывая на себя (художник работал прежде всего с собственным телом, уподобляя себя собаке) негативные реакции. Благополучных посетителей статусных выставок пугала агрессивность художника, неистовость, с которой он исполнял роль пса. Он поистине «вгрызался» в нормальный западный арт-истеблишмент, протестуя против сложившихся в нем отношений между художником и потребителем, покупателем искусства. Для нашего искусства, пережившего длительный и печальный период огосударствления и с восторгом включавшегося в транснациональный арт-рынок, это было серьезным и не воспринятым вовремя предупреждением.
В эти годы акционизм вышел и на политическое поле: вполне серьезно создавалась партия насекомых и животных и собирались «подписи» в виде отпечатков лап и крылышек, в другой акции президент вызывался на боксерский поединок, и т.д. Тогдашняя власть, надо отдать ей должное, никак не отвечала. Видимо, хватало юмора.
Десятилетием позже была создана питерская группа «Что делать» — по лекалам западных легальных левых, много рассуждающих о рабочей борьбе, но избегающих реальных обострений. Соответственно группа более востребована и понятна на Западе. Но в целом в Петербурге акционизм не столь развит. Зато у нас отметилась группа «Война» (неустойчивая по составу и, как мне представляется, по устремлениям). Акция с мостом и нарисованным на нем фаллосом замечательно безбашенная и вместе с тем укорененная в традиции. Спустить штаны перед властью — это же в традициях русской смеховой культуры, это прямо по М. Бахтину. Да и Пушкина можно вспомнить:
Не удостаивая взглядом
Твердыню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом:
Не плюй в колодец, милый мой.
Но вот что интересно: такого общественного напряжения, как последующая, проведенная «Pussy Riot», эта акция, при всей ее в буквальном смысле обнаженной провокативности, не вызвала. Видимо, потому, что в ней не было персональной оскорбительности.
Сейчас в России нарастают разобщение общества, раскол, в том числе по линии прогрессизма и охранительства. Эти процессы, увы, связаны с обоюдным упрощением культуры, причем и художественной, и политической. Упрощение — делить культуру на охранительскую и прогрессивную — революционную, ниспровергающую и пр. Упрощение и полагать, что политический акционизм — передовой отряд contemporary art, безгрешный по части художественной хотя бы в силу своей боевитости.
Есть и последствия этого упрощения. Забывается очень простая вещь: художник-акционист — не политический активист. Это, при всех оговорках, разные профессии. Смешение ролей приводит к печальному результату: кто больнее заденет, ущучит, развенчает, тот и лучший художник. Не так. Скульптор А. Матвеев умно говорил: по такому-то (вставьте сами) поводу не стоит беспокоить скульптуру.
Опаснее то, что великое упрощение стоит и за реакцией другой стороны — власти, охранителей, определенной части общества. Вообще-то, акционизм любой власти не нравится. И «молчаливому большинству» тоже. Так было и в Нью-Йорке, просто США прошли этот рубеж раньше, а мы только начинаем проходить. Власть болезненно реагировала на акции (выходки) политических акционистов: и Кусаму, и «Guerilla Girls» тоже арестовывали за то, что они что-то там нарушали. Другое дело — их арестовывали, штрафовали, в худшем случае давали сроки день-два. Но из наказания не сотворяли мести, хотя там тоже были свои ретивые охранители.
Почему? Думаю, в обществе существовала традиция понимания реальной роли и возможностей искусства, желающего быть политически активным. (Увы, в силу исторических обстоятельств у нас подобной традиции нет, напротив, на искусство налагались невыполнимые бойцовские обязательства, выраженные хотя бы в риторике: быть оружием… партии, государства и пр.) Это понимание непритязательное, но единственно разумное. Художник — политический акционист — не боец, не городской партизан, не террорист-злоумышленник. Он в лучшем случае вестник. Он доносит сообщение, облеченное в художественную форму, о болевых и опасных точках (опять же опасных, с точки зрения каких-то референтных общественных групп).
Акционизм — это сообщение, которое может быть принято властью и (или) другой частью общества или нет. Но карать вестника — это что-то архаическое. По крайней мере для нашего мира (есть страны, где за карикатуры, упаси бог, убивают). Еще раз: художники — политические акционисты — диагносты, а не чума, они вестники событий, а не сами события. Это стоит помнить не только охранителям, но и самим художникам. К сожалению, сегодняшняя реальность показывает возрастающую роль великого упрощения. Возьмите письмо «историков» о картине Репина, его авторы воспринимают искусство буквально, как историческую реальность! Убивал — не убивал! Так воспринимают рисунки и сказки маленькие дети или недоросли. Из этого письма, кстати, можно сделать замечательный перформанс: «Уберите Ивана Грозного из музея!» Смеяться? Обижаться? Воевать?
Среди инструментов современного искусства, хотим мы этого или нет, есть такое орудие, как провокативность, не главное: искусство не сводится к провокации, но и обязательное: часто, особенно в случае политического акционизма, без этого инструмента не подготовить почву для восприятия месседжа. Но есть и другое — искусство умно реагировать на эту провокативность.
Вспоминаю старый анекдот. В лабораторию физиолога Павлова приводят молодого щенка, и старый, все повидавший пес его наставляет: «Видишь — кнопка. Есть захочешь — нажимаешь, эти, в белых халатах, тут же еду приносят. У них это называется условный рефлекс!» Пора отказываться от условного рефлекса. Нет, не охранительства — никто не имеет права отказывать людям в праве на традиционность и консерватизм сознания и поведения. Пора отказаться от рефлекса великого упрощения. Художественный акционизм нажимает некую кнопку. Вовсе не обязательно закармливать его по этому сигналу. Но и не обрушиваться на него всей силой государственной машины. Достаточно выслушать. Или не услышать.
ДИ №2/2014