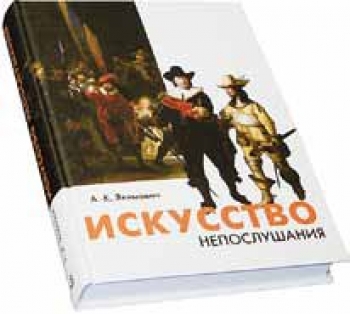
|
В последние годы возникла новая научная дисциплина – универсальная, или «большая», история. Она начинается, говоря научным языком, с Большого взрыва (впрочем, далеко не все ученые исходят из этой гипотезы), а языком библейским – от Сотворения мира. Сразу вспоминается Владимир Вернадский с его теорией ноосферы, некоего взаимопроникновения человеческого и космического. Вспоминается и Кузьма Петров-Водкин с идеей органической культуры, когда и такие события, как революция, включаются в общий космический процесс наряду с тайфунами и землетрясениями.
Эти соображения пришли мне в голову при чтении книги блистательных очерков Александра Якимовича, включающей, по его обыкновению, глобальное время и пространство – от Возрождения до новейшего авангарда и от мировой живописи до литературы. Но жанр сравнительно небольшого эссе позволил автору в известной мере избежать «научного многоглаголанья», чем порой страдали прежние авторские книги, прояснить и высветить основную мысль, поданную в яркой литературной форме, с глубокими и неожиданными разборами классических произведений, оригинальными суждениями, живыми характеристиками художников и писателей и неким парадоксом – катарсисом в финале почти каждого эссе.
Автор блещет эрудицией, но достоинства книги, как мне кажется, не в ней, а, напротив, в преодолении «инерционного» искусствознания и литературоведения, из года в год повторяющих «прописи», в попытке заново вглядеться в культурный процесс и классические произведения. Чего стоят горячие рассуждения о языке Канта, который вовсе не так сух, как нас убедили переводчики. Или попытка проследить в образах гоголевских помещиков из «Мертвых душ» некие историко-культурные стадии развития человечества, а в треплевской пьесе, разыгранной в «Чайке», обнаружить смешение разнообразных литературных и философских общих мест. Но все эти блестки разбросаны как бы между прочим, в ходе живого и яркого анализа произведений, который нанизывается на «большую» авторскую мысль, проходящую через всю книгу. Что же это за мысль?
Вот тут-то и приходят на ум космические аналогии. Прокламируемая автором «антропология недоверия» – это, в сущности, попытка рассмотреть искусство и человеческую культуру в контексте космических процессов, бесконечной жизни живой природы, связь с которой ощущают все большие художники. При этом, как показывает автор, движение «в сторону природы» становится в искусстве со временем все настойчивее и заметнее. А «витальные» энергии природы всегда были для больших мастеров первичнее государств и правительств, этических, религиозных и прочих ценностей и институтов. В своих научных и философских трактатах художники могут постулировать некие моральные ценности (как, положим, Гоголь или Толстой), но в их произведениях все равно торжествует природа с ее свободой и непредсказуемостью.
В этом контексте антропология недоверия прочитывается как выход художника за рамки социально устойчивого и накатанного, привычного и приличного. Художники «хулиганят» и нарушают сложившиеся в обществе нормы. Со времен Возрождения художник, ощутивший «неудачу» творения и «негодность» человека, черпает в этой антропологии силы для свободного эксперимента, самоутверждается через трагическое самоотрицание.
В своих очерках автор прослеживает различные возможности такого «хулиганства» и «непослушания». Это может быть позиция «неуча» и «недоучки» у великого Леонардо, окруженного сплошь латинистами и гуманистами-гуманитариями, внесение элемента театрального шутовства в серьезное и государственно важное, как в «Ночном дозоре» Рембрандта, тотальный «божественный» смех, как у Гоголя, или строптивое нежелание раскрывать свои личные тайны, как у придворного живописца Веласкеса в «Менинах»…
Рефреном звучит идея, что все эти художники говорят о «поражении человека языком победителей». Мне кажется, что этот «рефрен» как-то сужает и слишком огрубляет то, что в книге подано с утонченным артистизмом, глубиной и разнообразием. Мрачная фраза о «поражении человека» не подходит ни к Микеланджело, ни к Рембрандту, ни к Шекспиру, ни тем более Пушкину. Потому что дело, как кажется, не только в «языке» произведений, не только в блестящей форме, которая присуща «победителям» и дает ощущение победы. Автор книги прекрасно видит, что классическое искусство, несмотря на все свое недоверие к культурным институтам и ценностям, «дает воздух для дыхания и перспективу бытия» (с. 84).
На мой взгляд, автор нащупывает такие художественные парадоксы, когда невозможно отличить «поражение от победы» и когда «побежденный» (людьми или обстоятельствами) выглядит гораздо достойнее любого победителя – да тот же самый Дон Кихот, о котором Якимович с таким воодушевлением пишет. А это не «язык», не «форма», это сущностные моменты.
Вообще, в книге масса таких парадоксов, которые больше и интереснее авторских формулировок. Положим, автор утверждает, что классические мастера довольно безразличны к «маленькому человеку», так как моральные ценности их мало волнуют. Но наиболее запоминающиеся в книге пассажи как раз и связаны с «маленьким человеком». Поразительный кусок о «Жиле» Ватто, где изящнейший автор пасторальных идиллий вдруг проявил теплоту и сострадание к нелепому клоуну. Или финал эссе о «веселом бойце» Э. Мане, написавшем в конце жизни грустную девушку-кельнершу в баре «Фоли-Бержер», оберегающую бокал с двумя цветками. Почему с двумя? Художник, оказывается, «знал свой диагноз». Или рассуждений о том, как русская живопись, вопреки толстовскому желанию «идейности», любовалась цветом, светом, мазком и прочими художническими «заморочками», вдруг поразительный анализ репинского «Не ждали», где «маленький человек» (идейный революционер), истощенный и больной, возвращается в дом (даже Дом), в котором родные могут его выходить и где все предметы знакомы и дороги. Словно бы с «ницшеанских» высот полного имморализма автор возвращается в долину людей, где по-прежнему ценятся простые вещи, такие как дом, тепло, привязанность, любовь. Этого ведь никакая «антропология недоверия» не отменяла? Но до этих «простых вещей» дело у автора доходит не так уж часто. Может быть, поэтому он замечает у Гоголя тотальный холодноватый смех, но не замечает завернутой в смешные и жалкие одежды любви старосветской четы, которая на поверку оказывается высокой и подлинной? С любовью у автора вообще некоторая «напряженка», говоря современным языком. Природные энергии не предполагают человеческой любви, это скорее тот самый «секс», который воплотился в брутальных произведениях знаменитого маркиза. И не от того ли наименее удачным, на мой взгляд, в книге получился разговор о Пушкине?
Он начинается с вопроса: «Можно ли верить Пушкину?» Кажется, сам автор в этом сомневается. Но никакая «антропология недоверия» не заставит меня усомниться в Пушкине! Просто так, на уровне все той же природной интуиции, говорящей, что это подлинное и настоящее. Усомнится можно в пушкинистах и их натужных интерпретациях, но не в правде, поэзии и красоте пушкинских стихов, да и в самой его личности, которая росла и развивалась (как растет и развивается на протяжении романа его герой Онегин – от банальной «науки страсти нежной» до подлинной любви). Поэтому пушкинские ранние высказывания могут не совпадать с поздними. «Глупец один не изменяется», – писал поэт. И странно ловить его на этих «противоречиях». Автору вообще лучше удаются культурологические штудии. Так, анализ «Бориса Годунова» оригинален и свеж, хотя и возвращает нас к горьким чаадаевским размышлениям о России, выпавшей из истории. Народ реагирует не на лозунги демократии или монархии, ему не нужны «прогресс и общественный порядок», он живет в неисторическом времени мифа и лишь временами откликается на все те же вековечные ценности добра и милосердия, отказываясь, как юродивый, молиться за «царя-Ирода»… (Кстати говоря, мне кажется, что финальное молчание народа – из разряда тех же «вековечных» моральных оценок: народ отказывается славить очередных убийц на троне).
Но вот разговор об «Онегине» вызывает недоумение. Автор упрекает героя, который не поддался «природному» призыву «предаться страсти». В героине же видит некую «менаду», а я бы даже сказала, цыганку Земфиру, которая подчиняется только природным энергиям. Но Земфира и изменчива, как природа или как погода: сегодня по прихоти полюбила, завтра разлюбила. Пушкинские «Цыганы» на самом деле – поэма трагическая, в ней выразилось глубокое разочарование в такой «естественной» дикой любви да и в самой « романтической» жизни «на природе».
В Татьяне мы видим утонченнейший сплав природы и культуры. Она, если любит, то уж «до гроба», но это результат и чтения «романтических» книг (культура), и ее собственной органической цельности (природа). Она нарушает общественные приличия, написав пись-мо с признанием, но надеется на онегинскую честь, а это уже апелляция к утонченной дворянской культуре. Так что призыва к «свободным отношениям» в «Онегине» мы не найдем. Найдем скорее нерешенный вопрос.
К нерешенным вопросам пришли в своем отрицании, как показывает автор, также Достоевский и во многом Толстой. Это ли поражение? И вот тут мы подходим к очень важному моменту. В интересном и глубоком эссе о Чехове автор, ссылаясь на Канта, говорит о «мужестве знать». В свете этого мужества Чехов оказывается «беспощадным», разоблачающим мелких никчемных людей и глупые правила их жизни, далекие от природных установлений. В число этих людей попадает и «гаденыш» Лаевский из «Дуэли», и слабый Треплев, да и старый профессор из «Скучной истории», «умница и гуманист», который, несмотря на все свои познания, не находит утешающих слов для близких.
Но ведь тот же Кант обнаружил антиномии, ограничивающие возможности «чистого разума» – нашего познания. О самых важных вещах – Боге, бессмертии, конечности или бесконечности Вселенной – мы ничего не можем знать, можем только гадать. Мне кажется, что логика авторского повествования ведет нас скорее к другому роду мужества – мужеству не знать. (И кстати, автор пишет о подобного рода «ученом незнании» в замечательном куске о Монтене). По сути, оно восходит еще к Сократу, знавшему единственно о своем незнании.
И вот в свете этого мужества Чехов оказывается вовсе не таким «беспощадным», потому что многого он, как и его герои, просто не знает. «Гаденыш» Лаевский (как называет его Якимович) проходит в повести сложный человеческий путь, он меняется, добреет, хотя едва ли обретает точное знание, как жить. Старый профессор на склоне лет обнаруживает, что даже любимой своей Кате не может ничего посоветовать. Все будет банальностью, неправдой. А лгать он не хочет. Жизнь открыта и непредсказуема, констатирует Чехов. Но в ней есть своя поэзия, которую обнаруживает мальчик, путешествующий по степи, есть живые чувства в их преемственности (как в рассказе «Студент»), есть мгновенья счастья и любви (как в «Доме с мезонином»). Мало? Но разве дело в количестве? Кстати, «естественно-природные» интенции русских писателей подхватил Кнут Гамсун, но разве лейтенант Глан, поселившийся в лесу и, казалось бы, порвавший с миром культуры, обрел счастье? Такой же крах, как у Алеко, и все те же нерешенные вопросы…
Книга Якимовича заставляет о многом задуматься, многое пересмотреть. Авторская «антропология недоверия» буквально перетряхивает все устоявшиеся стереотипные суждения, заставляя самостоятельно пробиваться к подлинным смыслам и ценностям культуры, истории, природы. Появление таких книг «космически» необходимо – не дает распространяться энтропии.
ДИ №2/2012




